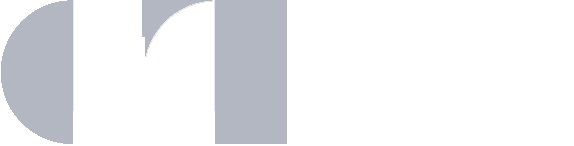Секция «Региональные проблемы мировой политики». Сессия: «Дилеммы исторической̆ памяти в построении национальной̆ и региональной̆ идентичности»
В настоящее время направление memory studies становится все более популярным в отечественной и зарубежной науке, в том числе – в области исследований международных отношений. Специалисты, работающие в этом предметном поле, не просто описывают прошлое, но пытаются установить как, кем и для чего оно конструируется в массовом сознании «здесь и сейчас». Историческая память предстает неким пантеоном национальной идентичности. Обладая мобилизующим потенциалом, она оказывается способной сплотить группу и подтолкнуть ее к более активным действиям. Исходя из подобного конструктивистского понимания исторической памяти, участники сессии обсудили значение специфики осмысления советского прошлого и процесса распада СССР для саморепрезентации современной России на международной арене и в представлении собственных граждан; перспективы применения концепций онтологической и мнемонической безопасности к исследованиям в области международных отношений.
В качестве основных докладчиков на мероприятии выступили: заместитель директора по научной работе ИНИОН РАН, д.полит.н. Д.В. Ефременко; полномочный представитель Федерального Собрания Российской Федерации – заместитель Ответственного секретаря ПА ОДКБ, д.э.н. М.И. Кротов; доцент кафедры международной безопасности ФМП МГУ, д.полит.н. А.В. Фененко. Модератором заседания стала заместитель декана по научной работе ФМП МГУ, к.социол.н. А.М. Понамарева.
Открывая заседание, А.М. Понамарева обозначила, что в XXI веке проблематика исторической памяти, безусловно, состоялась как тема научных исследований. Если за точку отсчета взять выход в 1925 г. книги Мориса Хальбвакса «Социальные рамки памяти», то история memory studies насчитывает уже почти сто лет. «Мемориальный бум» последнего двадцатилетия стал очередным «пиком» в развитии данного научного направления после подъема в первой трети ХХ в., когда оформились первые исследовательские программы и была обозначена основная предметная область исследований памяти. Несмотря на очевидную интенсивность и длительность периода «брожения умов», сосредоточенных на изучении памяти как социального феномена, академическое сообщество не пришло к консенсусу относительно категориально-понятийного аппарата дисциплины. В данном контексте, показателен опыт канадского экспериментального психолога и нейрофизиолога Энделя Тулвинга, который в 2007 г. решил провести своеобразную каталогизацию определений памяти. В итоге было выделено 256 типов понятий, включавших в себя и созданные историками понятия культурной памяти, политической памяти, архивной памяти и т.д. Тем не менее во всем многообразии гуманитарных исследований, авторы которых работают с термином «память», можно обнаружить нечто общее. Память рассматривается, преимущественно, как социальный конструкт, в рамках подхода согласно которому «знание мира создается, а не открывается». Что характерно, исторические нарративы продуцируются не только политическими элитами, они могут стать реакцией на попытку различных общественных групп, переосмыслив прошлое, отстроить иного себя в будущем. Подобного рода запрос всегда возникает в критические времена, «эпоху перемен» и общей нестабильности, почеркнула А.М. Понамарева, отметив, что, с учетом данного обстоятельства, самым правильным будет открыть заседание круглого стола с доклада, посвященного теме «Трансформация мирового порядка и историческая память» Д.В. Ефременко.
«Фундаментальные трансформации мирового порядка, свидетелями и отчасти участниками которых мы являемся, – обозначил Дмитрий Валерьевич, – казалось бы, напрямую не соотносятся с исторической памятью. Но в рассмотрении обнаруживается, что связь, а, вернее сказать, многочисленные связи существуют: связи между тем, как интерпретируется прошлое и тем, как выстраиваются новые конфигурации в межгосударственном и международном взаимодействии». В подтверждение этого тезиса докладчик предложил рассмотреть проблематику исторической памяти в «мнемоническом треугольнике», образуемом крупнейшими акторами мировой политики – Россией, КНР и США.
Глубокий раскол американского общества охватил и сферу культурной политики, что пошатнуло устойчивость традиционных приемов легитимации внешнеполитического курса Соединенных Штатов, заключающихся в утверждении американской исключительности через отсылки к историческому прошлому. Сама возможность сомнения в непогрешимости отцов-основателей американской федерации и их главного творения – американской демократии – уже подтачивает идеологические основания глобального доминирования США. Этот эффект многократно усиливается, когда часть американской политической и интеллектуально элиты начинает руководствоваться в своих действиях положениями критической расовой теории – практического подхода, изучающего историю «белого доминирования» и отвергающего идею о том, что прошлое осталось в прошлом и что законы и система, пришедшие к нам из этого прошлого не несут на себе «родовой грех» расизма. Раскол между элитами в отношении базовых отсылок к американской истории продолжает углубляться, в том числе, и после завершения президентства Дональда Трампа. Сомнения в исторической и моральной легитимности американского доминирования, значительно усиливают впечатление о США как стране, теряющей уверенность в своих силах. Даже если это только впечатление, оно может иметь вполне реальные последствия в плане трансформации стратегий поведения основных глобальных игроков.
«КНР, напротив, – отметил Дмитрий Валерьевич, – создает образ уверенной в себе, восходящей державы, но при этом для легитимации власти Коммунистической партии Китая и проводимой ею внешней политики продолжает использоваться нарратив виктимности. «Столетие национального унижения» вполне уместно характеризовать в качестве привилегированного событийного нарратива КНР, хотя, его «приравнивание» к нарративу Великой отечественной войны в России, как это делает американский исследователь Джеймс Верч, неизбежно вызовет ряд оговорок, поскольку последняя гораздо более глубоко укоренена в индивидуальной и семейной исторической памяти граждан бывшего СССР, чем у китайцев». У партнеров Китая на международной арене апелляция к травматическому опыту «столетия национального унижения» вызывает определенные опасения хотя бы потому, что не все исторические «счета» были «закрыты» в 1949 г. Само сохранение модели «двух Китаев» типологически (да и эмоционально) может быть включено в перечень унижений, поскольку главным фактором, обеспечивающим ее устойчивость, является позиция Вашингтона. Даже применительно к российско-китайским отношениям можно говорить о достаточно длинном перечне претензий, в числе которых взятие Пекина 14 августа 1900 г. союзными силами европейских держав и Японии, основную роль в котором сыграли русские войска; подавление Ихэтуаньского восстания; погром и изгнание китайцев из Благовещенска, ведение войны с Японией на китайской территории в 1904-1905 годах и т.п. И если проблемы политики в дипломатическом отношении были урегулированы Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР 2001 г., то в плане политики памяти привилегированный нарратив «национального унижения» существенных изменений не претерпел. При этом в последние годы мы наблюдаем сближение позиций России и Китая в отношении исторической памяти о Второй Мировой войне, выразившееся, в числе прочего, в переносе Москвой даты окончания ВМВ со второго на третье сентября с целью «синхронизации» исторического времени с Пекином. Таким образом, совместное обращение двух стран к проблематике исторической памяти хотя и несет в себе определенные риски, может стать ресурсом упрочения положения Москвы и Пекина в системе международных отношений.
«Россия в «большом мнемоническом треугольнике» занимает промежуточное положение, – продолжил Дмитрий Валерьевич, – В XX в. у нее за плечами двойной опыт кризиса оснований национальной идентичности, помноженный – в отличие от США – на крах государственности. В то же время укрепление постсоветских государственных институтов, усилия по преодолению травматического синдрома, связанного с распадом СССР, нарратив «вставания с колен», который на Западе интерпретируется как ревизионизм в отношении постбиполярного мирового порядка, сближают Москву с Пекином и его усилиями по преодолению векового “национального унижения”». Докладчик подчеркнул, что основные стимулы для российской политики памяти, в том числе и той, что рассчитана на внутреннюю аудиторию, проистекают из внешней среды, из области международных отношений: проблемы и конфликты интересов между крупнейшими акторами мирового порядка приобретают дополнительное измерение и особую глубину, переходя на уровень идентичности сообществ, которые стоят за соответствующими государствами. Примечательно, что и вне большого «мнемонического треугольника» – Россия-США-Китай – можно найти немало примеров напряженных столкновений исторических нарративов, причем их интенсивность прямо пропорциональная степени географической близости акторов. Примером служат русско-украинские, сербохорватские, грузино-осетинские и т.п. «войны памяти».
Описывая суть дилеммы мнемонической безопасности, которой соответствуют подобного рода интеракции Д.В. Ефременко пояснил, что в ситуации, когда некий исторический нарратив, выступающий мифом-основанием для государства А, на систематической основе оспаривается государством В, элиты государства А оказываются перед выбором: игнорировать эти действия или разработать комплекс мер, направленных на противодействие подрыву своего нарратива и дискредитацию исторических установок значимых для государства В. Именно этот выход на весьма опасную траекторию мы сегодня и наблюдаем в отношениях России и т.н. коллективного Запада. Однако важная особенность мнемонической безопасности заключается в невозможности ее преломления исключительно в рамках политики памяти. Очевидно, предпосылками выхода из дилеммы мнемонической безопасности является хотя бы относительное ослабление геополитической напряженности между Россией и Западом, снижение уровня конфронтации.
Проблема взаимозависимости исторической памяти и механизмов социокультурной преемственности была затронута следующим докладчиком М.И. Кротовым в выступлении на тему «Беловежское соглашение в исторической памяти и современной евразийской политике».
Михаил Иосифович обозначил, что политическим искажениям подвержена память как о далеком прошлом, так и об относительно недавних событиях. «Последние десять двенадцать лет застоя и перестройки отождествляются массовым сознанием со всем периодом существования СССР, – отметил докладчик, – что служит своеобразным обоснованием неизбежности «крупнейшей геополитической катастрофы» XX века». Если обратиться к зарубежным учебникам, мы увидим, что Советский Союз предстает в них чуть ли не колониальной отсталой страной. Никто не вспоминает о том, как электрификация, индустриализация и введение обязательного образования привели СССР к самым быстрым темпам роста производительности труда в XX веке. Соответственно, то поколение, что выросло за последние тридцать лет в странах СНГ, и не только СНГ, воспринимает этот нарратив о «колониальной империи СССР» как истину, и приходит к выводу, что ничего хорошего ни в Киргизии, ни в Таджикистане, ни на Украине в советский период не было. Сквозь призму искаженной памяти рассматривается сегодня и Беловежское соглашение. Причем в констатации «беловежского предательства» российские аналитики проявляют парадоксальную солидарность с западными политиками. «Между тем, – подчеркнул Михаил Иосифович, – справедливая критика Беловежского соглашения уходит в сторону от критики его невыполнения».
С целью развеять миф о сговоре «трех пьяниц», разваливших СССР, Михаил Иосифович выделил действительные причины саморазрушения Советского Союза. К их числу он отнес: догматический подход к марксистской теории и социалистической практике; рост зарплаты рабочих, необеспеченный товарным покрытием, спровоцировавший диспропорцию между спросом и предложением; форсирование политических реформ без адекватного радикального реформирования экономической системы, усугубленное ошибками управления.
Грубыми экономическими ошибками перестройки стали: антиалкогольная кампания в условиях товарного дефицита; отказ от высокотехнологичных производств под видом «конверсии»; попытка удовлетворить спрос наращиванием экспортных поставок нефти и газа (что привело к резкому падению цен на ресурсы) и взятием кредитов на Западе. Свою негативную лепту внесло разрешение переводить безналичные деньги в наличные в целях первоначального накопления капитала.
Применительно к идеологическим причинам было отмечено, что государственная информационная политика критики господствующей коммунистической идеологии превратилась в критику самого государства – СССР, а информационная политика госорганов союзных республик выстраивалась вокруг нарративов о преимуществах выхода из Советского Союза.
Говоря о политических причинах распада СССР, докладчик напомнил, что «в момент подписания Беловежского соглашения все республики (кроме Казахстана) уже заявили о выходе из Советского Союза. И в этом плане Беловежское соглашение – это уже было следствие, а не причина».
Наконец, приоритетным является вопрос о том, что же еще было написано в соглашении, ликвидировавшем СССР? Предполагалось создание межгосударственного объединения и давалась его рамочная характеристика: общее экономическое пространство, общее социальное пространство, общее военно-стратегическое пространство под общим командованием, скоординированная внешняя политика, полная защита этнических языковых, культурных прав меньшинств, движений и т.д. И все это могло бы лечь в основу нового варианта Советского Союза, более федеративного, более демократического. Беловежское соглашение напрямую увязывало независимость Украины, России и Белоруссии с их обязательствами по созданию СНГ. Поэтому, не подписав Устав СНГ, Украина даже формально не выполнила условия признания своей независимости. А тот факт, что в соглашении было прописано создание общего военно-стратегического пространства, дает все международные основания признать справедливыми те «красные линии», что обозначаются официальной Москвой при обсуждении планов дальнейшего расширения НАТО на восток.
Что же мы имеем сегодня? Столкновение на постсоветском пространстве международных проектов соответствующих (Союзное государство, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ) и несовместимых с Беловежским соглашением (ГУАМ, Восточное партнерство, Ассоциация с ЕС) интеграционных проектов. «Я считаю, – завершил свое выступление Михаил Иосифович, – нам [России] следует требовать выполнения Беловежского соглашения. Мы действуем в правовом поле, и если Россия принимает какие-то договора, то она не только должна выполнять их сама, но и последовательно требовать от партнеров их полного, а не избирательного и ситуативного выполнения».
С заключительным докладом на тему «Историческая память об опыте построения Германской империи в современных международных отношениях» выступил А.В. Фененко.
В своем выступлении Алексей Валериевич проследил эволюцию «немецкого вопроса» как определенной территориально-политической системы, которая, меняя веками свой геополитический центр, трансформировала приоритеты и направления своей международной политики. Докладчик сразу подчеркнул, что понятия Германия и «Германский мир» далеко не тождественны друг другу. «Германский мир» дает нам интересные примеры построения империй на основе искусственных идентичной.
Начало этого процесса, по мнению автора, относится еще к Х в., когда короли Германии провозгласили себя римскими императорами. С этого времени «Германский мир» получил иную идентичность – им формально управляли римские императоры (только с XIII в. – императоры Священной Римской империи, а с XV в. к ее названию добавилось «германской нации). Это предопределило особое отношение в Германии к римскому наследию. Победа над Римом – предмет традиционной гордости в немецком самосознании, но одновременно римское наследие воспринимается как «свое», а Германия – как своеобразное продолжение Римской империи.
В период Наполеоновских войн эта система была ликвидирована и распалась на три центра. Первый – Рейнско-Баварская платформа, организованная Наполеоном в Рейнский союз, наследником которого считали себя баварские Виттельсбахи. Второй – Пруссия – полугерманское – полуславянское государство, созданное на границах германского и западнославянского миров, находившееся изначально вне коренного ареала Священной Римской империи. Третья – Австрийская империя – личные владения императоров Священной Римской империи, организовавшие в отдельное, преимущественно негерманское, государство. Именно австрийскими Габсбургами была создана идеология панславизма, согласно которой западнославянские народы, получив просвещение от германских императоров, должны нести его остальным славянам. Частью «Германского мира» считалась в то время и Российская империя, которой управляли по крови немецкие монархи, а среди аристократии и чиновничества был силен германский компонент.
После Наполеоновских войн вопрос о немецкой идентичности встал с новой силой. Условно сформировались две партии: великогерманцы (сторонники объединения Германии под эгидой Австрии) и малогерманцы (сторонники объединения Германии на базе членов Германского союза без Австрийской империи). О если бы объединение произошло под эгидой Австрии, то понятие «германцы» резко расширилось бы. Считать ли ими германизированных чехов, словенцев, румынских секлеров, а, возможно, и немецкое население российской Прибалтики? Тот факт, что чехи и словенцы — славяне, не решал проблему, а только подчеркивал ее: население Бранденбурга и Восточной Пруссии тоже во многом состояло из германизированных западных славян
Последующие события реализовали эти тенденции 1848 г. Крымская война означала распад австро-русского союза и вытеснение России как державы-гаранта «германской системы». Это дало Пруссии исторический шанс реализовать «малогерманский проект»: создание Германской империи на базе северной части «германского мира». Ключевую роль здесь сыграла Австро-прусская война 1866 г. — она вытеснила Австрию из «германского мира», превратив империю Габсбургов во внешнее по отношению к новой германской системе государство. Так называемое «объединение Германии» в Германскую империю означало в действительности разъединение «германской системы» на северную и южную части. Глубина этой трансформации 1860-х гг. не осмыслена в должной мере до сих пор. От «Германского мира» отсеклась не какая-то провинция, а его исторический имперский центр — Вена. В такой ситуации сама Австрийская монархия становилась «химерой» и нуждалась в иной, негерманской опоре. Эта логика побудила Габсбургов уже в 1867 г. преобразовать свою империю в Австро-Венгрию.
Утверждению «имперского проекта» способствовал и начавшийся в самой Германской империи кризис идентичности. После Австро-прусской войны 1866 г. история Священной Римской империи как бы «уехала» в Австро-Венгрию, став историей другого государства, и немцы оказались «народом без истории». Прусская империя стала искать новую идентичность сначала в музыкально-мистических драмах Рихарда Вагнера, затем в объявлении предками и родственниками германцев «Готской цивилизации», древних греков и арийцев (вплоть до Индии). Фактически это был проект построение империи с искусственной идентичностью, призванный создать особую цивилизацию. (Проект, получивший удивительные и крайне экспансионистские формы в Третьем Рейхе).
Вторая мировая война не просто покончила с идеей Германской империи — она привела к новой «пересборке» германской государственности. Ликвидация Пруссии и установление восточных границ Германии по Одеру-Нейсе отбросило германскую государственность далеко на Запад. Германия в новых границах фактически возвращалась к границам Германского королевства Х века – периоду до создания Священной Римской империи. Геополитическое «возвращение» в Х в. означало потерю Германией всех приобретенных за тысячу лет провинций, что ликвидировало саму систему Германской империи. Географически центр такой Германии смещался ближе к Западной Европе (в район Ганновера), чем к СССР / России. Это предопределяло тяготение новой Германии к взаимодействию с западноевропейскими странами, чем с российской системой.
Сдвиг Германии на Рейнскую платформу позволил запустить проект «европейской интеграции». Либеральная школа любит изображать его как победу экономических расчетов над геополитикой. В действительности, формирование «западноевропейского ядра» в составе Франции, ФРГ, стран Бенилюкс и Италии стало возможным благодаря смещению Германии во «франкский» ареал. Германия, базирующая на прусской платформе (Восточная Пруссия, Силезия и Бранденбург), едва ли смогла бы составить единый хозяйственный комплекс с Западной Европой, равно как и пойти на примирение с Францией. Получилось, что сама европейская интеграция требовала выполнения двух условий: ликвидации имперской платформы Пруссии и возвращения самой Германии на ее исконную платформу Восточно-Франкского королевства.
Для СССР ситуация оказалась менее благоприятной. В его распоряжении была только Бранденбургско-саксонская платформа, лишенная своего имперского центра в Восточной Пруссии. Территориально это была слишком малая единица для создания «второй Германии». Советская дипломатия отнюдь не стремилась разделить Германию: она до середины 1950-х гг. пыталась инициировать переговоры о создании единой нейтральной и безблоковой Германии, призванной уравновесить НАТО. Только принятие ФРГ в НАТО, закрывшее эти дискуссии, побудило СССР создать ГДР как социалистическую Германию фактически на землях «Бранденбургской марки».
Было отмечено, что в годы холодной войны под «немецким вопросом» понимался целый комплекс взаимосвязанных проблем: объединения двух немецких государств, признания ФРГ границ по Одеру-Нейсе и определение статуса Западного Берлина. Все эти проблемы, казалось, были решены в 1990 г., однако ряд ограничений суверенитета Германии действует до сих пор. В действительности, «немецкий вопрос» в скрытой форме сохраняется и в современной Европе. До настоящего времени вряд ли хоть один политолог с полной уверенностью скажет, возродится ли в будущем в Германии (точнее, в «германском мире») имперская идея, или же она забыта навсегда.
На первый взгляд современная Германия плотно интегрирована в «Атлантическое сообщество» как единое пространство, управляемое пересекающимися институтами НАТО и ЕС. Но в таком случае будущий немецкий выбор зависит от стабильности самого этого сообщества, а исключать его распада в свете опыта Brexit невозможно. На протяжении веков Германия неоднократно меняла тип своей государственности и даже свою территориальную основу.
Идентичность территориально подвижного «германского мира» была исторически связана с той территориальной платформой, которая выступала его центром в определенный период. «Атлантический выбор» современной Германии связан прежде всего с ее базированием на Рейнско-Баварской платформе, исторически связанной с Западной Европой. У современной Германии нет исторических имперских центров, которые могли бы изменить ее идентичность. Однако такая ситуация базируется на стабильности институтов ЕС, удерживающих Германию в рамках «Атлантической системы». Трансформация структуры этого сообщества может привести к подвижкам в географии «германской системы», что в будущем может вновь поставить вопрос о ее выборе.
В ходе работы круглого стола прозвучало немало вопросов и комментариев со стороны слушателей, тем не менее, все участники сессии сошлись во мнении, что с учетом актуальности заявленной проблематики и множественности сюжетов, способных стать предметом рассмотрения в рамках memory studies, полутора часов обсуждения явно недостаточно и подобные экспертные встречи стоит продолжать.