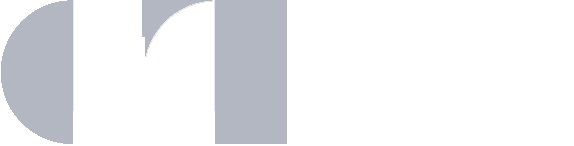Интервью директора ЦПБР В.И. Бартенева "Московскому университету"
- Категория: Новости ЦПБР
- Автор: Бартенев Владимир Игоревич
Директор ЦПБР Владимир Игоревич Бартенев дал интервью газете "Московский университет" (№ 8 (4514). Сентябрь 2016. С. 3).
Владимир Бартенев, доцент, заместитель декана факультета мировой политики МГУ (вторая премия в номинации «Достижения в научно-исследовательской деятельности») ответил на вопросы газеты «Московский университет».
— Расскажите, пожалуйста, о научной работе, которую Вы представили на конкурс.
— Я представил два цикла статей по проблематике содействия международному развитию (СМР). Они отражают приоритетные направления деятельности Центра проблем безопасности и развития (ЦПБР), созданного по моей инициативе в 2011 г. Первый цикл (из 3-х статей) посвящен проблемам политической экономии внешней помощи. Зачем одни государства помогают другим? Какие мотивы доминируют? Какие факторы влияют на изменение структуры мотивации? Над этими вопросами бьется уже не одно поколение специалистов, но к консенсусу прийти не удается. Я пришел к выводу, что противоречия в объяснительных моделях могут быть обусловлены недоучетом взаимосвязей между политическими и экономическими детерминантами и доказал это, исследовав влияние внутренних факторов на распределение внешней помощи в эпоху бюджетной экономии крупнейшим государством–донором — США. Второй цикл (четыре статьи) посвящен так называемой «связке» безопасности и развития, которая нередко позиционируется как новое слово в СМР. Продвигая идею «связки», международные акторы реализуют интегральные подходы, призванные содействовать решению проблем наиболее нестабильных государств. Однако между риторикой и практикой возникает непреодолимый разрыв. Опять встает вопрос — почему? Задавшись им, я подготовил цикл статей, в котором представил обобщения концептуального плана, обосновывающие необходимость применения контексто-ориентированного подхода, а также основанный на нем анализ эмпирического материала – в первую очередь, опыта США после терактов 11 сентября 2001 г.
— Вы читаете учебные курсы, тематика которых в центре общественного интереса. Насколько эти темы волнуют студентов? Часто ли приходится отвечать на острые вопросы? Привлекаете ли Вы студентов к научной деятельности?
— Я читаю курсы на всех трех ступенях — в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре. Эти курсы затрагивают актуальные проблемы трансформации системы международных отношений, их структуры, лидерства, влияния процессов глобализации и регионализации на суверенитет. Все эти вопросы сегодня, конечно, волнуют студентов. Моя задача — поддержать их энтузиазм, но при этом вооружить их инструментарием для ведения содержательного, а не эмоционального диалога. В магистратуре и аспирантуре такой диалог вести легче, но есть и студенты–бакалавры, готовые к нему. Именно их я стараюсь привлекать к научной работе — и как преподаватель, и как заместитель декана.
— Кого бы Вы назвали своим учителем в науке? Есть ли у Вас собственные ученики?
— Своими учителями я могу назвать нескольких людей. В первую очередь, это Е.Н. Глазунова, под руководством которой я писал диплом и кандидатскую диссертацию в секции международных отношений на кафедре новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ, бессменный руководитель этой секции А.Н. Маныкин, заведующий кафедрой международных организаций и мирополитических процессов А.А. Сидоров, научный руководитель ЦПБР, многолетний директор Института Африки РАН член-корреспондент РАН А.А. Громыко, а также декан нашего факультета академик РАН А.А. Кокошин. Я благодарен всем этим специалистам за то, что они помогли мне полюбить науку и создали нужные условия для творческого поиска. Сам я начал осуществлять научное руководство аспирантами не так давно, и пока не готов называть себя их учителем. Надеюсь, со временем этот «когнитивный диссонанс» исчезнет.
— Одна из Ваших последних статей посвящена борьбе с терроризмом в формате 3D. Не могу удержаться от вопроса — о чем это?
— Я рад, что название статьи привлекло внимание. Теоретически речь могла бы идти и об используемых для нанесения ударов по базам террористов беспилотниках, отпечатанных на 3D-принтере, но в данном случае все более прозаично и менее высокотехнологично. 3D — это аббревиатура, за которой скрываются три английских слова на букву «D» — defense (оборона), diplomacy (дипломатия) и development (развитие). Речь идет об интегральном подходе к борьбе с терроризмом, сочетании усилий во всех трех областях, что я и рассматриваю на примере одной из региональных программ США в Африке — Транссахарского контртеррористического партнерства.
— Вы постоянно задействованы в нескольких научных проектах. Есть ли какие-либо творческие планы, которыми Вы готовы поделиться?
— Участвовать одновременно в нескольких проектах — мой выбор как международника. Мои планы связаны с применением междисциплинарного подхода к анализу международных отношений. На факультете мы много работаем над тем, чтобы выстроить конструктивное взаимодействие между специалистами-международниками и регионоведами; политологами и экономистами; гражданскими и военными учеными. Надеюсь, что скоро результаты этой работы смогут оценить все.
Опубликовано в газете «Московский университет»,
№ 8, сентябрь, 2016

Бартенев Владимир Игоревич
К.и.н., директор Центра проблем безопасности и развития, доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ